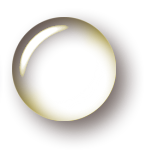- Книга сказок народов мира
- Азербайджанские сказки
- Английские сказки
- Арабские сказки
- Армянские сказки
- Афганские сказки
- Африканские сказки
- Башкирские сказки
- Болгарские сказки
- Белорусские сказки
- Валлийские сказки
- Венгерские сказки
- Вьетнамские сказки
- Германские сказки
- Греческие сказки
- Дагестанские сказки
- Аци - Баций
- Божья коровка
- Брат Шахли - Шах - Абасса
- Братья разбойники
- Волк и дятел
- Волшебное озеро
- Волшебный сад
- Гаджи
- Гунзари
- Два вора
- Две дороги начинаются в сердце
- Девушка и нарты
- Дикая птичка и кукольники
- Дубинка сильных
- Зурбач, барабанщик и канатоходец
- Из лезгинских каравели
- Кадий в люльке
- Как волк решил покаятся
- Как глупый сын хана искал себе жену
- Кечал и золотое кольцо
- Кому досталась хитрость
- Кот и мыши
- Кот и мышь
- Краше то, что тебе нравится
- Легенда о Цахурской мечети
- Лепешка которую, никто не брал
- Лиса и барсук
- Лиса и верблюд
- Лиса и волк
- Лиса и гусь
- Лиса и змея
- Лиса и перепелка
- Лисьи хитрости
- Медведь, волк и лиса
- Медвежий сын
- Мелик-Мамед
- Морской конь
- Мутаалим из Кижани
- Находчивый осел
- Несня о волке
- О пользе сказки, или как сын мельника обманул аждаху
- Охотники и их чарыки
- Победитель нартов
- Полукурочка
- Проданный мальчик
- Секрет молодости
- Синяя птица
- Сказка о Кара - Катыре
- Сказка о скупости
- Сказка придуманная нейросетью Yandex GPT2
- Старая Джурадж
- Суд кадия
- Сунуна и Меседу
- Счастливчик Араш
- Сыновья мельника и аждаха
- Табунщик и дочь падишаха
- Трое друзей
- Трусливый заяц
- Ум и счастье
- Устаз - обманщик
- Хан Петух, его жены и три хитреца
- Хитрец и царская загадка
- Храбрый кот
- Храбрый мальчик
- Человек и его тень
- Чилбик и харт
- Шанвели и Мангюли
- Индийские сказки
- Исландские сказки
- Испанские сказки
- Итальянские сказки
- Ирландские сказки
- Казахские сказки
- Карельские сказки
- Нейросетевые сказки
- Кипрские сказки
- Китайские сказки
- Корейские сказки
- Литовские сказки
- Норвежские сказки
- Польские сказки
- Русские сказки
- Северо-американские сказки
- Скандинавские сказки
- Суданские сказки
- Таджикские сказки
- Татарские сказки
- Тибетские сказки
- Туркменские сказки
- Украинские сказки
- Филиппинские сказки
- Французские сказки
- Чеченские сказки
- Шотландские сказки
- Югославские сказки
- Якутские сказки
- Японские сказки
Мутаалим из Кижани
Наше селение стережет снежная папаха Харами. Дедушка сказал: «Пусть мой внук знает не одну только нашу гору. Пошлите его учиться в Кижани, там был когда то учёный мулла». Отец согласился: «Всё-таки это ближе к Андийской Койсу — может быть, по этой реке мой сын узнает и другие страны». Мать дала мне кукурузную лёпёшку, и я стал кижанинским мутаалимом.
Учиться мне не понравилось. В Андийских горах все растут вверх, а я был коротышка, папахой я тоже отличался— она была рваная и белая на макушке, как снег на горе, и поэтому меня всегда дразнили. Мне это надоело, и я ушёл из Кижани.
Когда я дошёл до аула Гунха, мне пришло на ум, что дома меня будут ругать. Чтоб задобрить отца, я обменял свой пояс на мерку табака. Отец табак взял, но стал ругать меня и за то, что я бросил ученье, и за то, что вместо пояса стал подвязываться шерстяной верёвкой. Я обиделся и ушёл из дома.
Я шёл не по нашей дороге, а по турьим тропкам через горы и скалы. Шёл день, шёл второй, шёл третий. К вечеру я очутился у кладбища. Три дня я ничего не ел, кроме горных ягод, и, голодный, улёгся на одной из могил под каменными плитами, подготовленными для памятников.
Наутро меня разбудил людской говор. Оказалось, что это был день Джумы—пятницы, которая создана аллахом для моленья. Женщины аула пришли с хурджинами, в которых была еда, чтобы покормить себя и вспомнить тех, кого уже нет на земле. У меня живот прилип к спине, и я протянул сквозь камни руку и сказал женщинам: «Дайте и мне немного хлеба и мяса». Женщины подумали, что из могилы поднялся мертвец, бросили съестное и убежали. Я нагрузил свой живот и взял самый большой из тех хурджинов, что остались на кладбище, и пошёл дальше.
Шёл день, тел второй, шёл третий. Пришёл в один аул, где приглянулся богатой женщине, муж которой служил у соседнего хана. Женщина подумала, что коротышка много не съест и взяла меня в дом работником. Я с утра выгонял на горный луг овец этой женщины, потом возился с коровой и телкой, а вечером укладывался спать в нижней хлевной части дома, а о верхней узнал только то, что туда каждую ночь поднимался к хозяйке её любовник.
В овечьей кошаре я поймал запутавшегося в соломе скворца, привязал его шерстинкой к папахе и стал учить разным хитростям. Перед праздником Рамазана к моей хозяйке приехал неожиданно муж. Хозяйка успела спрятать любовника под лежанку, а угощение для него на полку за кувшинами, а мужу сказала, что в доме ничего нет, кроме хлеба и козьего сыра. Муж спросил: «А что это за человек там внизу?» «Это наш новый работник, — сказала жена, — он не объест нас». «А раз так, — приказал муж, — веди его скорее сюда, пусть помнит день Рамазана!»
Когда муж хозяйки утолил первый голод, он спросил: «Что это за птица у тебя на плече?» Я сказал, что это птенец аллаха и что он видит то, что не видят люди. Тогда муж хозяйки велел: «Пусть он увидит тут что-нибудь пожирнее, чем этот тощий сыр». Я отпустил шерстинку, и направил скворца к кувшинам. Хозяйка заохала: «Ох, я и забыла, что приготовила для мечети садака». Муж хозяйки сказал: «Ум у женщины и у глупой курицы из одного мяса. Грешно давать мечети, когда в животе пост. Неси всё сюда!»
Мы поели хинкал с мясом, залили его по горло бузой, и муж хозяйки спросил: «Эта твоя птица аллаха разве видит только еду? Пусть она увидит то, что было в моём доме, когда меня в нём не было!» Я отпустил шерстинку и направил скворца к лежанке, под которой спрятался любовник хозяйки.
Хозяйка набросилась на птенца аллаха и свернула ему шею, потом стала кричать, что это я с утра спрягал тут вора, чтобы ночью ограбить её дом. Любовник хозяйки кинулся к её мужу и стал говорить, что он не вор, а служитель мечети и что пришёл он в дом за садакой к Рамазану. А мужа хозяйки одурманило и от бузы и от криков, и ему стало казаться, что в его доме две жены и два её любовника.
Пока он разбирался в этой численности, я воспользовался тем, что был ниже и незаметнее всех, набил свой хурджин хлебом и мясом и ушёл из этого дома навсегда.
Я шёл день, шёл второй, шёл третий и к вечеру пришёл к ещё одному селению — самому большому в этих краях. Мой хурджин стал тощим, и его худоба перешла и на мой живот.
Голодный, я забрался на стог сена, сложенный у крайнего двора селенья. Когда луна спряталась за гору, к стогу подошел юноша, а потом прибежала девушка с узлом и стала обнимать юношу и говорить, что она сегодня припасла для него пироги и мёд. Мой живот толкал меня поближе к съестному, и я свалился со стога. Девушка и юноша испугались и убежали.
Я сказал «бисмиллах» своему животу и зарылся в сено, чтобы поспать.
Под утро возле стога появился вор. Он стал перекидывать сено на арбу и вместе с сеном подхватил вилами и меня. Я коротышка, но вор кинул меня поперек арбы, она оказалась короче меня, и ноги мои стали волочиться за колесом. Аульские собаки набросились на них, и я закричал. Вор испугался и убежал.
На мой крик собрались люди и стали ругать меня, думая, что я вор.
Я обиделся и сказал, что под горой Карами люди никогда не были ворами, что сено мне не нужно, и я его никогда не ел и что в моем краю все знают меня как мутаалима из Кижани. В толпе, которая собралась у арбы, я увидел девушку и юношу, объяснившихся в любви и угощавших друг друга то поцелуями, то мёдом и сказал, что хочу вернуть им кувшин и платок, в которых было съестное.
Девушка испугалась, что я расскажу о ночном свидании и сказала, что я гость её дяди из соседнего селения, а юноша сказал, что его отец, который был самым учёным муллой в этом ауле, знает кижанинского муллу и что тот писал ему обо мне как о самом почётном и умном мутаалиме.
Главный мулла слышал всё это, знал, что коротышка растёт в хитрость, но не желал позора своего сына и подтвердил правоту его слов. А дома он дал мне бумагу, в которой на языке арабских священных книг написал, что я прошёл все науки и знаю теперь больше, чем мулла из Кижани.
Я вернулся с этой бумагой в свой аул и стал первым и самым достойным его учёным. Если не верите, посмотрите в эту бумагу! Вассалам-ва-каллам, посмотрите и на эту печать!